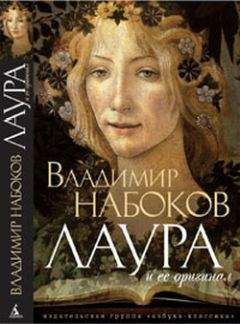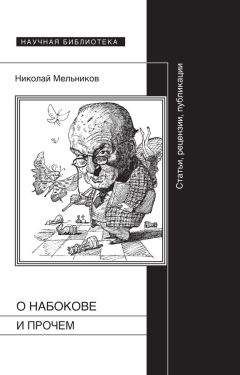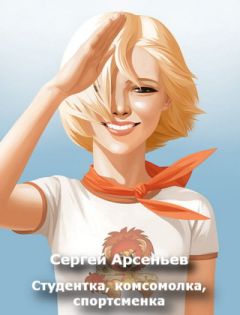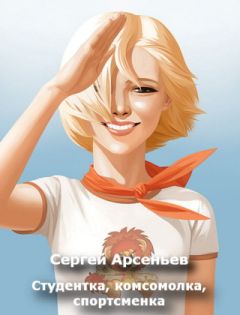Евгений Лейзеров - Слово о Набокове. Цикл лекций (13 лекций о сиринском «сквозняке из прошлого»)
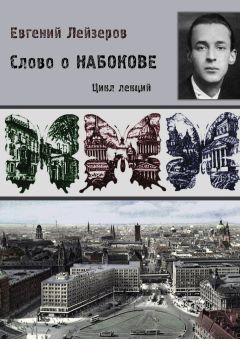
Помощь проекту
Слово о Набокове. Цикл лекций (13 лекций о сиринском «сквозняке из прошлого») читать книгу онлайн
А в том же году, когда Володе было 7 лет, он открыл для себя бабочек. В «Других берегах» писатель вспоминает, что это увлечение в некотором роде дань семейной традиции: «Было одно место в лесу на одной из старых троп в Батово, и был там мосток через ручей, и было подгнившее бревно с края, и была точка на этом бревне, где пятого по старому календарю августа 1883 года вдруг села, раскрыла шелковисто-багряные с павлиньими глазками крылья и была поймана ловким немцем-гувернером этих предыдущих набоковских мальчиков исключительно редко попадавшаяся в наших краях ванесса. Отец мой, как-то даже горячился, когда мы с ним задерживались на этом мостике и он перебирал и разыгрывал всю сцену сначала, как бабочка сидела, дыша, как ни он, ни братья не решались ударить рампеткой и как в напряженной тишине немец ощупью выбирал у него из рук сачок, не сводя глаз с благородного насекомого».
А вот как Набоков описывает свою первую встречу с бабочкой: «Началось все это, когда мне шел седьмой год, и началось с довольно банального случая. На персидской сирени у веранды флигеля я увидел первого своего махаона – до сих пор аоническое обаяние этих голых гласных наполняет меня каким-то восторженным гулом. Великолепное бледно-желтое животное в черных и синих ступенчатых пятнах, с попугаячьим глазком над каждой из парных черно-палевых шпор, свешивалось с наклоненной малиново-лиловой грозди и, упиваясь ею, все время судорожно хлопало своими громадными крыльями. Я стонал от желанья. Один из слуг – тот самый Устин, который был швейцаром у нас в Петербурге, но почему-то оказался тем летом в Выре, – ловко поймал бабочку в форменную фуражку, и эта фуражка с добычей была заперта в платяной шкаф, где пленнице полагалось за ночь умереть от нафталина; но когда на другое утро Mademoiselle отперла шкаф, чтобы взять что-то, бабочка, с мощным шорохом вылетела ей в лицо, затем устремилась к растворенному окну, и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в золотую точку…».
В нашем повествовании появилось новое лицо, некая Mademoiselle. На этой особе надо более подробно остановиться. Дело в том, что у Набокова, когда он подрос, были домашние воспитатели, как правило, из нуждающихся студентов Петербургского университета. Как сам писатель вспоминает, с 1907 года у него был длинный ряд учителей, составленный из представителей самых разных племен Российской империи: русский, еврей, украинец, латыш, поляк; большинство – из разночинцев. Но до этого и далее, при них оставаясь, была мадемуазель Миотон, ставшая главным учителем Владимира. Рассказ «Мадемуазель О» – это портрет французской гувернантки, который он написал задолго до своих автобиографий на английском и русском языках, однако целиком его, включив в них.
«Мне было шесть лет, брату пять, когда, в 1905 году, к нам приехала Мадемуазель. Показалась она мне огромной, и в самом деле она была очень толста. Вижу ее пышную прическу, с непризнанной сединой в темных волосах, три, – и только три, но какие! – морщины на суровом лбу, густые мужские брови над серыми – цвета ее же стальных часиков – глазами за стеклами пенсне в черной оправе; вижу ее толстые ноздри, зачаточные усы и ровную красоту большого лица, сгущающуюся, при наплыве гнева, до багровости в окрестностях третьего и обширнейшего ее подбородка, который так величественно располагается прямо на высоком скате ее многосборчатой блузы. Вот, готовясь читать нам, она придвигает к себе толчками, незаметно пробуя его прочность, верандовое кресло и приступает к акту усадки: ходит студень под нижней челюстью, осмотрительно опускается чудовищный круп с тремя костяными пуговицами на боку, и напоследок она разом сдает всю свою колышимую массу камышовому сиденью, которое со страху разражается скрипом и треском.
Зима, среди которой она приехала к нам, была единственной, проведенной нами в деревне, и все было ново и весело – и валенки, и снеговики, и гигантские синие сосульки, свисающие с крыши красного амбара, и запах мороза и смолы, и гул печек в комнатах усадьбы».
И обратите внимание, как своеобразно описан ее приезд:
«Я не поехал встречать ее на Сиверскую, железнодорожную остановку в девяти верстах от нас; но теперь высылаю туда призрачного представителя и через него вижу ясно, как она выходит из желтого вагона в сумеречную глушь небольшой оснеженной станции в глубине гиперборейской страны и что она чувствует при этом. Ее русский словарь состоял из одного короткого слова – того же, ничем не обросшего, неразменного слова, которое спустя десять лет она увезла обратно, в родную Лозанну. Это простое словечко «где» превращалось у нее в «гиди-э» и, полнясь магическим смыслом, звуча граем потерявшейся птицы, оно набирало столько вопросительной и заклинательной силы, что удовлетворяло всем ее нуждам. «Гиди-э, гиди-э?» – заливалась она, не только добиваясь определения места, но выражая бездну печали – одиночество, страх, бедность, болезнь и мольбу доставить ее в обетованный край, где ее, наконец, поймут и оценят.
Бесплотный представитель автора предлагает ей невидимую руку. На ней пальто из поддельного котика и шляпа с птицей. По перрону извивается заметь. Куда идти? Изредка дверь ожидальни отворяется с дрожью и воем в тон стуже; оттуда вырывается светлый пар, почти столь же густой, как тот, который валит из трубы шумно ухающего паровоза. «И вот я стояла, всеми брошенная, совсем как графиня Каренина», – красноречиво, если и не совсем точно, жаловалась она впоследствии. Но вот появляется настоящий спаситель, наш кучер Захар, рослый, выщербленный оспой человек, в черных усах, похожий на Петра Первого, чудак, любитель прибауток, одетый в нагольный овечий тулуп, с рукавицами, засунутыми за красный кушак. Слышу, добросовестно скрипит под его валенками снег, пока он возится с багажом «мадмазели», с упряжью, позвякивающей в темноте, и с собственным носом, который, обходя сани, он мощно облегчает отечественным приемом зажима и стряха. Медленно, грузно, томимая мрачными предчувствиями, путешественница, держась за помощника, усаживается в утлые сани. Вот она всунула кулаки в плюшевую муфту, вот чмокнул Захар, вот переступили, напрягая мышцы, вороные Зойка и Зинка, и вот Мадемуазель подалась всем корпусом назад – это дернулись сани, вырываясь из мира вещей и плоти, чтобы плавно потечь прочь, едва касаясь отрешенной от трения снежной стези.
Мимолетом, благодаря свету провожающего нас фонаря, чудовищно увеличенная тень – с муфтой и в шляпе, похожей на лебедя, – несется в обгон по сугробу, затем обгоняется вторичной тенью, там, где перенимает санки другой, последний фонарь, и все исчезает: путешественницу поглощает то, что потом, рассказывая свои приключения, она называет с содроганьем «степью». Бедная иностранка чувствует, что замерзает «до центра мозга» – ибо она взмывает на крыльях глупейших гипербол, когда не придерживается благоразумнейших общих мест. Порою она оглядывается, дабы удостовериться, что другие сани, с ее черным сундуком и шляпной картонкой, следуют сзади, не приближаясь и не отставая, как те компанейские призраки кораблей, которые описали нам полярные мореходы.
Не забудем и полной луны. Вот она – легко и скоро скользит, зеркалистая, из-под каракулевых тучек, тронутых радужной рябью. Дивное светило наводит глазурь на голубые колеи дороги, где каждый сверкающий ком снегу подчеркнут вспухнувшей тенью.
Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? Как попал я сюда? Точно в дурном сне, удалились сани, оставив стоящего на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Саней нет как нет; бубенчики их – лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой – за спасительный океан! Однако двойник медлит. Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег – настоящий на ощупь; и когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев».
Как Вам понравилось? А что больше всего понравилось – описание Мадемуазель, или описание зимней природы, или описание Захара? Продолжим, однако, дальше.
«Декорации между тем переменились. Инеистое дерево и кубовый сугроб убраны безмолвным бутафором. Сад в бело-розово-фиолетовом цвету, солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи – все цело, все прелестно, молоко выпито, половина четвертого, Мадемуазель читает нам вслух на веранде, где циновки и плетеные кресла пахнут из-за жары вафлями и ванилью. Летний день, проходя сквозь ромбы и квадраты цветных стекол, ложится драгоценной росписью по беленым подоконникам и оживляет арлекиновыми заплатами сизый коленкор одного из длинных диванчиков, расположенных по бокам веранды. Вот место, вот время, когда Мадемуазель проявляет свою сокровенную суть.